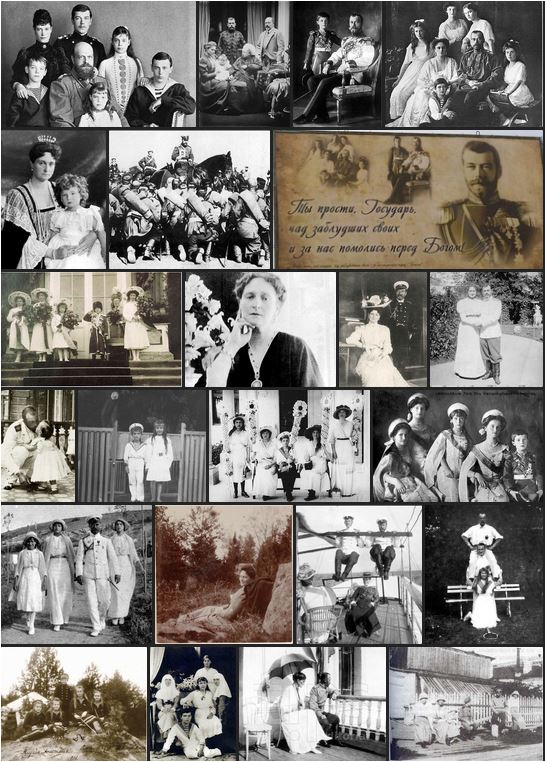

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!
КОНТАКТЫ
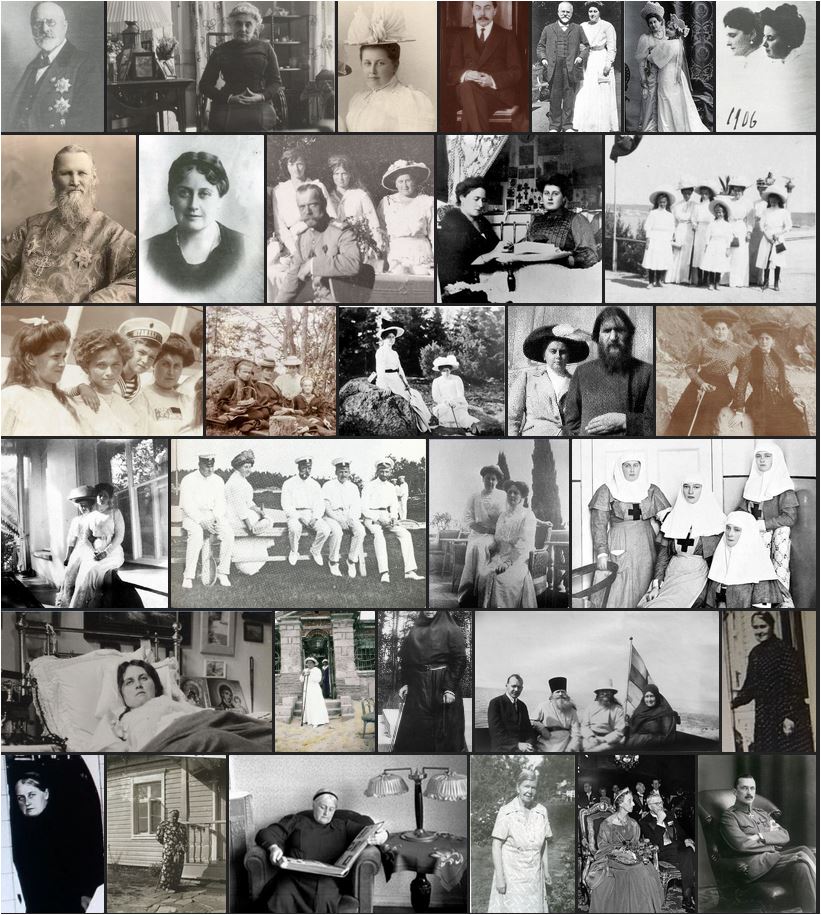
ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.
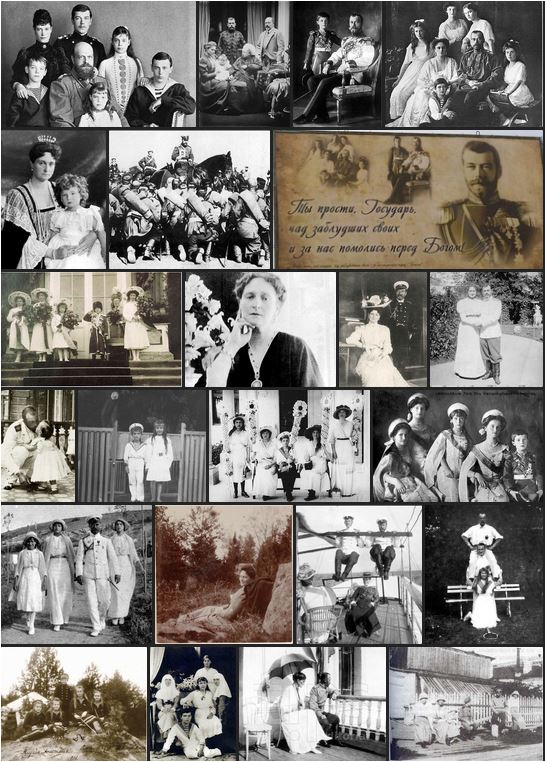 |
 ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА! КОНТАКТЫ |
PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.
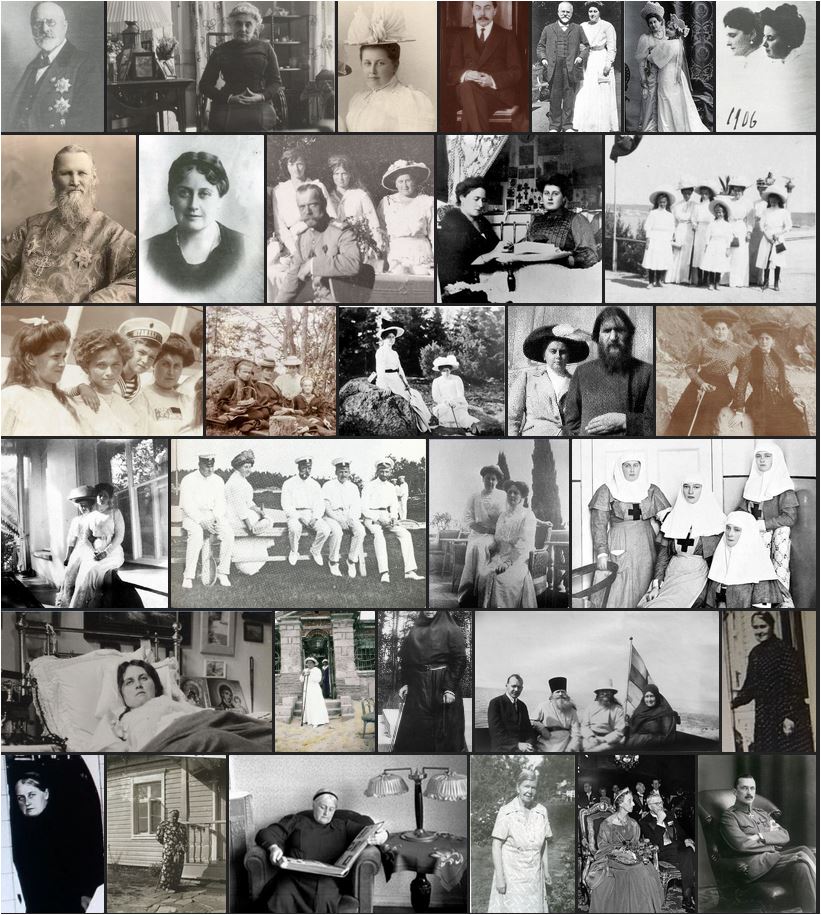 |
|
«Как женщина и как мать Алиса-Александра проявляла себя безукоризненно. Но перед глазами публики она представала в первую очередь как Императрица, обязанная «играть по правилам», не ею изобретенным. Должна была приспосабливаться к нежеланному, участвовать в неинтересных ей церемониях, любезничать с неприятными людьми... Ей всегда в обществе не хватало искусства куртуазности, тонкого мастерства «светскости», которым в совершенстве владела ее свекровь, ...она считала, что Царица не должна «бегать за популярностью»... Александра Феодоровна ...призналась в письме фрейлине Марии Барятинской: «Я не могу блистать в обществе, я не обладаю ни легкостью, ни остроумием, столь необходимым для этого. Я люблю духовное содержание жизни, и это притягивает меня с огромной силой. Думаю, что я представляю тип проповедника. Я хочу помогать другим в жизни, помогать им бороться и нести свой крест». (А.Боханов, «Император Николай II»). «Я не виновата, что застенчива. Я гораздо лучше чувствую себя в храме, когда меня никто не видит; там я с Богом и народом... Императрицу Марию Феодоровну любят потому, что Императрица умеет вызывать эту любовь и свободно чувствует себя в рамках придворного этикета: а я этого не умею, и мне тяжело быть среди людей, когда на душе тяжело». (Императрица Александра Феодоровна). «Государыня была, прежде всего, матерью и женой. Вначале она пыталась ограничить свои обязанности Государыни до той меры, насколько это было возможно, и уделяла оставшееся свободным время своей семье. Она не любила ни роскоши, ни блеска, была равнодушна к туалетам настолько, что камеристкам приходилось напоминать ей о заказах новых платьев. Она носила одно и то же платье годами, в военные годы она не заказала себе ни единого из принадлежностей туалета. Своих детей она весьма строго воспитывала в нетребовательности. Одежда переходили от старших к младшим совсем, как в бедных буржуазных семьях – в Финских шхерах Императорские дети часто носили скромные хлопчатобумажные платья. Если бы Им довелось жить после революции, то они очень хорошо обошлись бы даже в очень простых условиях. Государыня, которая распоряжалась сравнительно большими средствами на приобретение нарядов, не использовала деньги на свои платья, а раздавала их бедным или жертвовала на благотворительные цели до такой степени, что часто оставалась без денег, когда действительно нужен был новый праздничный наряд». (Из воспоминаний «Анна Вырубова - фрейлина Государыни»). «Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горячее участие принимала Государыня в судьбе туберкулезных, приезжавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму были старого типа. Осмотрев их все в Ялте, Государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. Часами я разъезжала по приказанию Государыни по больницам, расспрашивая больных от имени Государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущим! Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, Императрица сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась со мной, лично привозя деньги, цветы, фрукты, а главное - обаяние, которое она всегда умела внушить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности! Но никто об этом не знал; Государыня запрещала мне говорить об этом. Императрица соорганизовала четыре больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 1912, 1913 и 1914 годах; они принесли массу денег. Она сама работала, рисовала и вышивала для базара, и, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из рук Государыни или дотронуться до ее платья; она не уставала продавать вещи, которые буквально вырывали из ее рук. Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на прилавке, протягивая ручки с вещами восторженной толпе. В день «белого цветка» Императрица отправлялась в Ялту в шарабанчике с корзинами белых цветков: дети сопровождали ее пешком. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не тронутый революционной пропагандой, обожал Их Величества, и это никогда нельзя забыть». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы из моей жизни»). «Во время пребывания Их Величеств в Крыму Ее Величество всегда устраивала базары с благотворительной целью. Впоследствии на деньги, собранные таким образом, а отчасти и на личные средства Ее Величества была построена в Массандре на берегу моря чудная санатория, куда во время войны посылались на климатическое лечение раненые офицеры. Главный доход на этих базарах доставляли собственноручные работы Ее Величества и Великих Княжон, состоявшие в очень красивых рукоделиях или рисунках. Ее Величество замечательно искусно делала акварелью различные виньетки на каких-нибудь пресс-папье, рамочках или коробочках, сразу делавшие скромную вещь заметной своим изяществом и красотой. За столом с этими вещами всегда Ее Величество, а также и Великие Княжны присутствовали сами, и понятно поэтому, что толпа была невероятная и продажа шла с исключительной быстротой. За другими столами торговали светские дамы, проводившие сезон в Ялте, которых Ее Величество привлекал, таким образом, к благотворительности». (Из воспоминаний Т.Мельник (Боткиной). «Государыня забыла о своей болезни и слабости и непосредственно принялась за обширную организаторскую работу по устройству складов бельевых и лечебных принадлежностей, больниц и больничных поездов. Всё должно быть готово как можно скорее, так как Государыня знала, что сразу после первых сражений раненые множеством будут отправляться с фронта домой. Она разработала широкую сеть больниц и центров военно-медицинской службы, которые простирались из Петербурга и Москвы до Харькова и Одессы на юге России. Было совершенно непостижимым, какой сильной и организаторской способной она была, как она, трудясь изо всех сил для облегчения страданий других, забыла о своей болезни». (Из воспоминаний «Анна Вырубова - фрейлина Государыни»). Государыня, её старшие дочери Ольга, Татьяна и я записались ученицами в сестры милосердия женского врача, доктора Гедройц. Каждый вечер у нас было два часа теоретического обучения, первую половину дня мы работали в больницах. Наша работа была далеко от забавы. …Прибыв в больницу в девять часов утра, мы шли в приёмные комнаты, в которую приносились солдаты прямо с фронтов или из полевых госпиталей. Не могу словами описать, в каком состоянии они были. Мы ополаскивали руки атисептическим раствором и принимались за работу. Снимали клочья одежды, промывали и перевязывали обезображенные тела, искалеченные лица, ослепшие глаза, на месте которых иногда была лишь кровоточащая ямка. Опытные сёстры милосердия руководили нами в нашей работе, Государыня очень скоро стала равной профессиональной сестре милосердия. Я видела Государыню России в операционной, держащей наготове эфирные бутылки, обращающейся с хирургическим инструментом, помогающей в сложнейших операциях, принимая, не колеблясь, ампутированные руки и ноги. Я видела её снимающую с раненых запачканную кровью одежду, которая была полна паразитов, терпящую тошнотворные запахи, не отступающей ни перед каким повседневным ужасом военного госпиталя. Я вытерпела много бедствий после моего пребывания сестрой милосердия, но это было незначительным по сравнению с тем, что видела в военных госпиталях. Однажды Государыня сказала мне, что вряд ли чем- либо она была так горда, как свидетельством, которое она получила по окончании курса сестёр милосердия. Окончили курсы также Великие Княжны Ольга и Татьяна и я. (Из воспоминаний «Анна Вырубова - фрейлина Государыни»). «Государыня любила посещать больных - она была врожденной сестрой милосердия; она вносила с собой к больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые солдаты и офицеры часто просили ее быть около них во время тяжелых перевязок и операций, говоря, что «Не так страшно», когда Государыня рядом. Как она ходила за своей больной фрейлиной княжной Орбельяни: она до последней минуты жизни княжны оставалась при ней и сама закрыла ей глаза. Желая привить знание и умение надлежащего ухода за младенцами, Императрица на личные средства основала в Царском Селе школу нянь. Во главе этого учреждения стоял детский врач доктор Раухфус. При школе находился приют для сирот на пятьдесят кроватей. Так же она основала на свои средства инвалидный дом для двухсот солдат-инвалидов японской войны. Инвалиды обучались здесь всякому ремеслу, для каковой цели при доме имелись огромные мастерские. Около инвалидного дома, построенного в Царскосельском парке, Императрица устроила целую колонию из маленьких домиков в одну комнату с кухней и с огородами для семейных инвалидов. Начальником инвалидного дома Императрица назначила графа Шуленбурга, полковника Уланского Ее Величества полка. Кроме упомянутых учреждений, Государыня основала в Петербурге школу народного искусства, куда приезжали, девушки со всей России обучаться кустарному делу. Возвращаясь в свои села, они становились местными инструкторшами. Девушки эти работали в школе с огромным увлечением. Императрица особенно интересовалась кустарным искусством; целыми часами она с начальницей школы выбирала образцы, рисунки, координировала цвета и так далее. Одна из этих девушек преподавала моим безногим инвалидам плетенье ковров. Школа была поставлена великолепно и имела огромную будущность. (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы из моей жизни»). «Не был оставлен без внимания Царицы и рабочий народ, для которого учреждались вспомоществовательные институты, питомники для грудных детей, дома и приюты для бесприютных сирот, дома для безработных, престарелых, родовспомогательные учреждения, приюты для сумасшедших, библиотеки, читальни и разные учреждения, в которых получали посильную работу те, которые еще способны были трудиться. Особенно любила Императрица, как любящая мать, заботиться о девочках-сиротках, устраивая для них школы и приюты». (Из книги игумена Серафима (Кузнецова). «Вера ее всем известна. Она горячо верила в Бога, любила Православную Церковь, тянулась к благочестию, и непременно к древнему, уставному; в жизни была скромна и целомудренна. В отношении политики она была истой монархисткой, видевшей в лице своего мужа священного Помазанника Божия. Став русской Царицей, она сумела возлюбить Россию выше своей первой родины. Она была чутка, отзывчива на людское горе и сердобольна, в устроении разных благотворительных учреждений изобретательна и настойчива. Множество новых, весьма крупных, благотворительных учреждений возникли по ее инициативе, благодаря ее заботам и поддержке». (Из «Воспоминаний последнего протопресвитера русской армии и флота о. Георгия Шавельского»). «День Императрицы проходил в постоянных трудах и заботах, и она дорожила малейшим свободным временем, распределяя его на полезное. После утренней молитвы Государыня занималась по домашнему хозяйству и воспитанию детей; в часы отдыха читала книги, предпочитая литературу более религиозно-духовного содержания, а также занималась с дочерьми рукодельными работами. Вечером вся Царская Семья обменивалась своими дневными впечатлениями. Императрица сама совершала вечернюю молитву перед сном, того требовала и от своих детей. Говела и приобщалась Св. Христовых Тайн Царица несколько раз в течение года, каждый раз готовясь к сему постом и молитвой. Любила она говеть тайно от посторонних глаз, знали об этом только духовник и круг самых близких лиц. Государыня вообще любила посещать церковные богослужения: в церкви, где она бывала более часто, был сделан в укромном уголке аналой, у которого она стояла, следя за службой по богослужебным книгам. Вообще надо сказать, что жизнь Царской Семьи проходила подобно жизни первых Царственных Семейств христианских». (Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик»). «Припоминаю наши поездки зимой в церковь ко всенощной. Ездили мы в одиночных санях. Вначале ее появление в углу темного собора никем не замечалось; служил один священник, пел дьячок на клиросе. Императрица потихоньку прикладывалась к иконам, дрожащей рукой ставила свечку и на коленях молилась; но вот сторож узнал - бежит в алтарь, священник всполошился; бегут за певчими, освещают темный храм. Государыня в отчаянии и, оборачиваясь ко мне, шепчет, что хочет уходить. Что делать? Сани отосланы. Тем временем вбегают в церковь дети и разные тетки, которые стараются, толкая друг друга, пройти мимо Императрицы и поставить свечку у той иконы, у которой она встала, забывая, зачем пришли; ставя свечи, оборачиваются на нее, и она уже не в состоянии молиться, нервничает... Сколько церквей мы так объехали. Бывали счастливые дни, когда нас не узнавали, и Государыня молилась - отходя душой от земной суеты, стоя на коленях на каменном полу никем не замеченная в углу темного храма. Возвращаясь в свои царские покои, она приходила к обеду румяная от морозного воздуха, со слегка заплаканными глазами, спокойная, оставив свои заботы и печали в руках Вседержителя Бога». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы из моей жизни»). «Они оба, и Государь, и Императрица, носили в своей душе это стремление к Богу, и вся их внутренняя интимная жизнь была полна религиозным содержанием. Как истинные носители религиозного света, они были носителями не показными, а тихими, скромными, почти незаметными для большинства. Помню один день в Могилеве, во время последнего приезда туда Царской Семьи, когда одна из Великих Княжон мне сказала: «Мама хочет быть у всенощной не в штабной церкви, а в городском монастыре и просит вас сопровождать нас. Только, пожалуйста, не предупреждайте никого и не говорите полиции. Мы хотим помолиться совсем не заметно для других». Кажется, это было накануне 21 ноября 1916 года, так как именно в этот день Могилевский епископ сказал свою разнесшуюся по всему городу проповедь, которая начиналась словами: «Сегодня мы празднуем Введение во храм Царицы Небесной, а вчера в наш храм вошла незаметно Царица земная...». Эта красивая, полная искреннего чувства проповедь, призывавшая к отданию должного Государыне, за всю ее жизнь, посвященную Церкви и страдающим людям, произвела даже тогда, в жесткие, притупленные предреволюционные дни, очень сильное впечатление. По свидетельству старика Лукзена, переполненная церковь была очень взволнована, многие плакали… Мы вошли, никем не замеченные, в церковь и смешались с молящимися. Императрица купила свечи и сама, как и Великие Княжны, поставила их перед чудотворной иконой. Все ее движения, земные поклоны, приемы, с которыми она ставила свечку, крестилась, прикладывалась к образам, меня поразили своим изумительным сходством с движениями простых религиозно настроенных русских женщин. Только женщина, родившаяся и выросшая в старинной православной среде, проникнутая православными обычаями, сознающая всю ценность церковных обрядов, даже думающая простодушно по-русски, могла таким внешним образом выражать свое молитвенное настроение... Нас вскоре узнали, толпа около нас зашевелилась, зашепталась; откуда-то появились стулья, под ноги подталкивали ковры, молящиеся стали к нам тесниться, заглядывать в лицо... Императрица ничего не замечала - она ушла в самое себя. Она стояла с глазами, полными слез, устремленными на икону, с лицом, выражавшим беспредельную тоску и мольбу... губы ее беззвучно шептали слова молитвы, она вся была воплощение веры и страдания. О чем молилась она, за кого страдала, во что верила? - дома тогда все было благополучно, все, даже Алексей Николаевич, были здоровы, но Россия, изнывая в войне, была уже безнадежно больна... не о чуде ли ее исцеления и вразумления так настойчиво и горячо просила русская Царица? (Из воспоминаний флигель-адъютанта А.Мордвинова). «Государыня ...обдумывала все свои действия и, скорее, с недоверием относилась к тем, кто к ним приближался; но чем проще и сердечнее был человек, тем скорее она таяла. Все, кто страдал, были близки ее сердцу, и она всю себя отдавала, чтобы в минуту скорби утешить человека. Я свидетельница сотни случаев, когда Императрица, забывая свои собственные недомогания, ездила к больным, умирающим или только что поте¬рявшим дорогих близких; и тут Императрица становилась сама собой, нежной, ласковой матерью. И те, кто знал ее в минуты отчаяния и горя, никогда ее не забудут. Неподкупно честная и прямая, она не выносила лжи; ни лестью, ни обманом нельзя было ее подкупить. Но иногда Императрица была упряма, и тогда между нами происходили мелкие недоразумения. Особым утешением ее была молитва; непоколебимая вера в Бога поддерживала ее и давала мир душевный... Припоминаю нашу жизнь на «Штандарте», и насколько беспечно, если так можно выразиться, жили мы, настолько предавалась думам Государыня. Каждый раз по окончании плавания она плакала, говоря, что, может быть, это последний раз, когда мы все вместе на дорогой яхте. Такое направление мыслей Государыни меня поражало, и я спрашивала ее, почему она так думает. «Никогда нельзя знать, что нас завтра ожидает», - говорила она и ожидала худшее. Молитва, повторяю, была ее всегдашним утешением». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы из моей жизни»). «От первых месяцев я сохранил совершенно отчетливое воспоминание о крайнем интересе, с каким Императрица относилась к воспитанию и обучению своих детей, как мать, всецело преданная своему долгу. Вместо высокомерной, холодной Царицы, о которой мне столько говорили, я к величайшему удивлению нашел женщину, просто преданную своим материнским обязанностям. В это время по некоторым признакам я мог также отдать себе отчет в том, что сдержанность ее, на которую столь многие обижались и, которая вызывала против нее столько враждебных чувств, была, скорее, последствием природной застенчивости и как бы маской ее чувствительности». (Пьер Жильяр, «Из воспоминаний об Императоре Николае II и его семье»). «Жена и мать, прежде всего. Императрица обожала своего мужа и детей и чувствовала себя счастливой только среди них. Прекрасно образованная и с большими художественными задатками, она любила чтение и искусство. Соединяя в себе непосредственность с осторожной сдержанностью. Царица находила удовольствие в жизни созерцательной, в долгих глубоких размышлениях, и часто настолько уходила всей душой во внутренний мир, что отрывалась от него лишь при появлении опасности: тогда она со свойственным ей страстным пылом боролась с препятствиями. Одаренная прекраснейшими душевными и нравственными качествами, она всегда руководствовалась самыми благородными стремлениями и имела только одну цель в жизни - счастье своих». (Из воспоминаний Пьера Жильяра «Трагическая судьба Русской Императорской фамилии»). «Обычно они говорят между собой по-английски, или изредка по-немецки. Царица говорит по-русски вполне правильно, но заметно с немецким акцентом. Однако это не удивительно, так как она начала серьезно заниматься этим языком после сватовства. Дома они не часто употребляют французский язык; хотя Император говорит на этом языке превосходно. ...Голос Царицы тихий и низкий и в то же время не лишенный музыкальности. Ее веселый смех разливается серебристым приятным звуком, а ее лицо все еще носит выражение приятной задумчивости и красоты. /.../ Все сие вместе взятое делает жизнь Царицы очень интересной. Даже если бы она была не Императрица, ее домашняя жизнь считалась бы идеальной. Ее преданность сыну, который, наконец, родился у нее, — одно из величайших событий в современной русской истории. За образованием детей Императрица следит лично сама. Она безгранично любит всех детей, и все дети любят ее. В день рождения одного из своих детей она катается с ним довольно далеко куда-нибудь, и каждый из них с нетерпением ожидает этого события. Двое старших детей, Великие Княжны Ольга и Татиана, унаследовали от своей матери любовь к музыке и обе играют очень хорошо. Царю всегда их игра доставляет удовольствие». (Durland. «Хроника из жизни Русской царицы», пер. с английского. 1913 г.). «Цесаревич и Их Высочества часто хворали, и Государыня, как преданная мать, непременно хотела находиться рядом с детьми и выполнять обязанности сиделки. В ней было сильно развито материнское чувство. Ее Величество могла о ком-то заботиться. Если какая-то особа завоевывала ее привязанность и доверие, Государыня начинала проявлять интерес к мельчайшим деталям ее жизни. «Вера, Надежда, Любовь — это все, что имеет значение», — имела обыкновение говорить Ее Величество». (Из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»). «Иногда меня удивляло, почему она предпочитает друзей попроще, а не из более привилегированных кругов. Однажды, набравшись смелости, я задала Ее Величеству такой вопрос. Она мне призналась (хотя я об этом догадывалась), что болезненно застенчива и незнакомые лица чуть ли не пугают ее. — Меня не заботит, богат тот или иной человек или же беден. Друг для меня, кем бы он ни был, всегда остается другом». (Из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»). «Ее Величество не переносила снобизм. Однажды (это было во время японской войны) она работала в одном из помещений Зимнего Дворца. Окна его выходили на набережную Невы. Оттуда, где сидела Ее Величество, можно было наблюдать за солдатами и офицерами, проходившими мимо Дворца. Вдруг Государыня тяжело вздохнула. На лице Ее было написано крайнее негодование. Кто-то из военных, находившихся во Дворце, осмелился спросить, в чем дело. Ее Величество указала на набережную. «Вот в чем», - проронила она. Выяснилось, что солдаты, проходившие мимо одного из офицеров, откозыряли ему, но он им не ответил. «Почему же офицер не уважает солдат, вместе с которыми он может погибнуть? Терпеть не могу таких снобов», добавила она с холодком в голосе». (Из воспоминаний Юлии Ден «Подлинная Царица»). «Этой же осенью Ее Величество пошла с Вырубовой в Ялту за покупками. Вскоре пошел сильный дождь, так что, когда Ее Величество вошла в магазин, с ее зонтика натекли большие лужи на пол, и приказчик строго сказал ей, указав на подставку для палок и зонтиков: «Мадам, для этого есть вещь в углу». Императрица покорно поставила зонтик, но велико же было смущение приказчика, когда Выру6ова сказала «Александра Федоровна», - и он догадался, с кем разговаривал». (Из воспоминаний Т.Мельник (Боткиной). «Во время семейных бесед их разговор был всегда далек от всяких мелких пересудов, затрагивавших чью-либо семейную жизнь и бросавших какую-либо тень на одну из сторон. В течение многих дней и вечеров, когда я имел радость находиться в близком общении с Царской Семьей, я ни разу не слышал даже намека на сплетню, столь оживлявшую всегда все классы как нашего, так и иностранного общества. Попытки некоторых близких лиц нарушить это обыкновение неизменно встречались молчанием и переменой разговора. В этом отношении Семья моего Государя была единственной из всех, какие я когда-либо знал: о них сплетничали все, даже близкие родные, они не сплетничали ни оком. Вся грязь человеческой жизни, с которой Его Величеству, как высшему лицу, приходилось невольно сталкиваться, вызывала в нем, по известным мне случаям, ярко выраженное отвращение, полное брезгливого нежелания останавливать на них свое внимание или входить в подробности. Но вся Семья отнюдь не обособлялась от жизни в других ее проявлениях». (Из воспоминаний флигель-адъютанта Мордвинова). «Блистательное ли окно Дворца, слепое ли окошечко подвала – одно устремление мысли ввысь. Ни одной «фразы», ни одной позы, никогда о себе. Только обязанности, долг перед мужем-Царем, Наследником-сыном. Никогда перед людьми – всегда перед Богом. /.../ Трогательна была их любовь и прямо обожание родителей и взаимная дружба. Никогда не видел такого согласия в столь многочисленной Семье. Прогулка с Государем или совместное чтение считалось праздничным событием». (Из воспоминаний И.В. Степанова «Милосердия двери»). «Последнее время у Императрицы все чаще и чаще повторялись сердечные припадки, но она их скрывала и была недовольна, когда я замечала ей, что у нее постоянно синеют руки и она задыхается. «Я не хочу, чтобы об этом знали», – говорила она. Помню, как я была рада, когда она, наконец, позвала доктора. Выбор остановился на Е. С. Боткине, враче Георгиевской общины, которого она знала с японской войны, – о знаменитостях она и слышать не хотела. Императрица приказала мне позвать его к себе и передать ее волю. Доктор Боткин был очень скромный врач и не без смущения выслушал мои слова. Он начал с того, что положил Государыню на три месяца в постель, а потом совсем запретил ходить, так что ее возили в кресле по саду. Доктор говорил, что она надорвала сердце, скрывая свое плохое самочувствие. Их Величества не смели болеть, как простые смертные, – малейший их шаг замечался, и они часто пересиливали себя, чтобы присутствовать на обеде или завтраке или появляться в официальных случаях». (Из воспоминаний А.А. Вырубовой «Страницы из моей жизни»). «Всё же больше всего Государыня боялась войны, так как она видела в этом конец России. Государь скрыл от неё всеобщую мобилизацию. Я была свидетелем её неописуемой скорби, когда она узнала об этом, всё ещё желая всеми своими силами как-то спасти Россию. Она чувствовала приближение гибели и искренне пыталась делать всё возможное, что может сделать любящая женщина для спасения, как России, так и своей семьи». (Из воспоминаний «Анна Вырубова - фрейлина Государыни»). «В крушении Царской власти в России нельзя обвинять Государыню. Напротив, самая большая ответственность лежит на тех, кто пытался всеми средствами свалить ответственность на Государыню. Имею в виду, в частности, Великих Князей, которые затевали интриги против Императорской Четы. Государыня хотела помочь своему мужу сохранить своё высокое положение и своё полномочие. По её мнению надо было сделать всё возможное, чтобы война оказалась, в конце концов, победной. Она не хотела даже и слушать тех, кто говорил, что Государю надо отказаться от своей Монаршеской власти. Потом, когда отречение от престола действительно произошло, было поразительно, как Государыня несла бремя изменившихся условий. Никто не слышал её жалующейся об утрате господствующего положения. Многочисленные письма, которые ей удалось написать мне во время своего заключения, говорят об её исключительном спокойствии, с которым она приспособилась к злоключениям. Всё же, она была Государыней до последнего и я уверена, что она за всё время заключения не впала в безутешность. Последняя Русская Государыня была верной и безупречной супругой, которая больше всего любила своего мужа и своих детей. Если бы она не была Государыней, она была бы радостной и счастливой матерью семейства». (Из воспоминаний «Анна Вырубова - фрейлина Государыни»). Подготовила Людмила Хухтиниеми. Источник: Православный календарь 2010. Царственные страстотерпцы. «Анна Вырубова - фрейлина Государыни». Под редакцией Ирмели Вихерюури. Отава, Хельсинки. Перевод с финского Людмилы Хухтиниеми. © Copyright: tsaarinikolai.com |