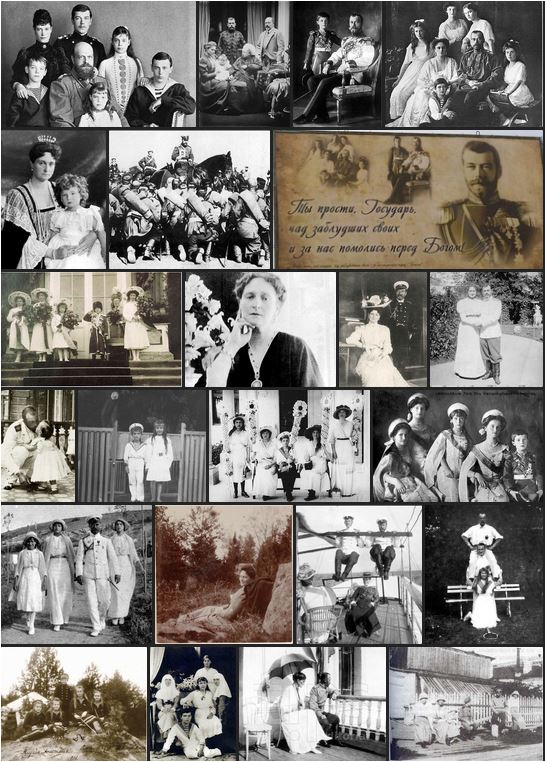

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!
КОНТАКТЫ
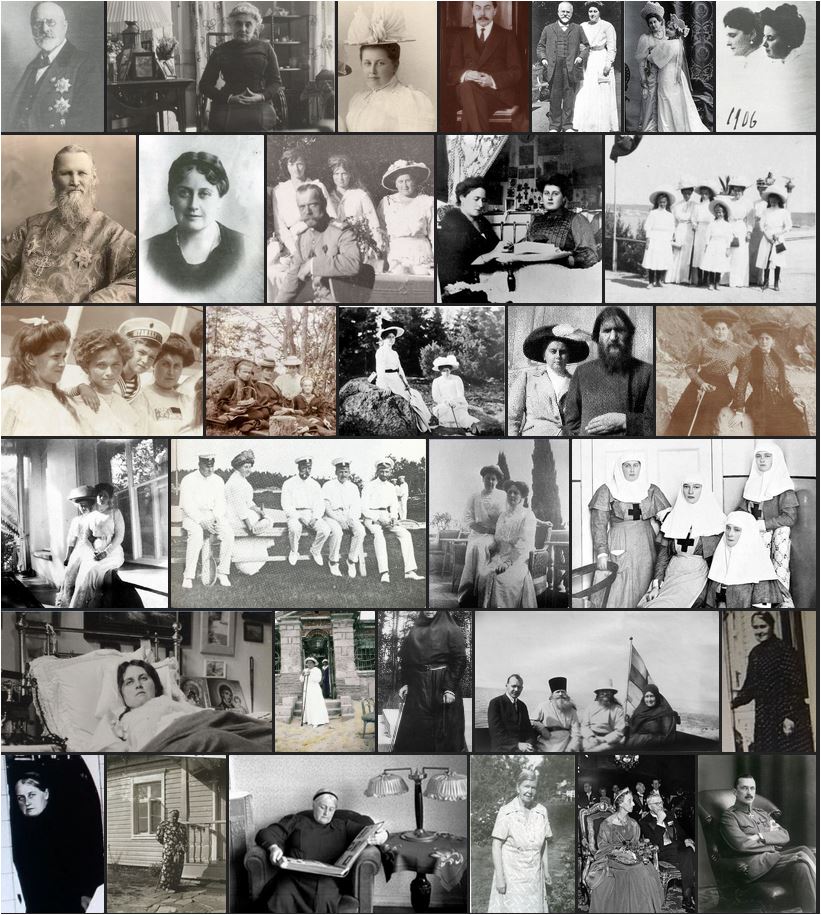
ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.
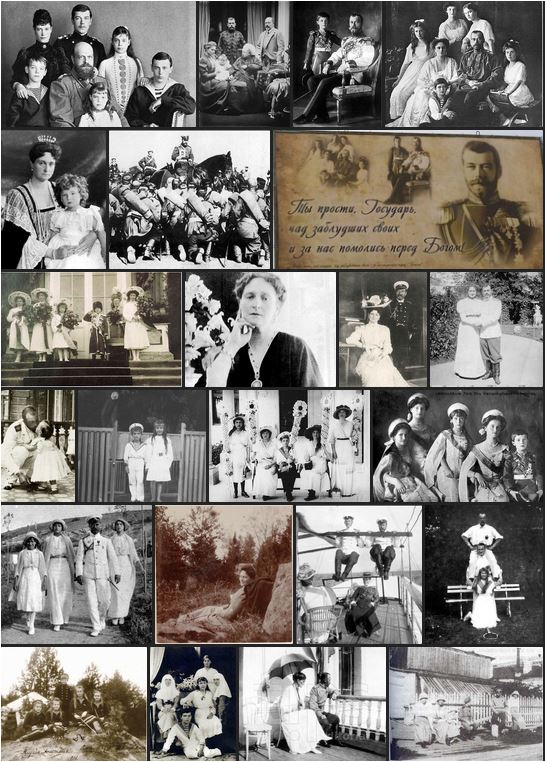 |
 ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА! КОНТАКТЫ |
PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.
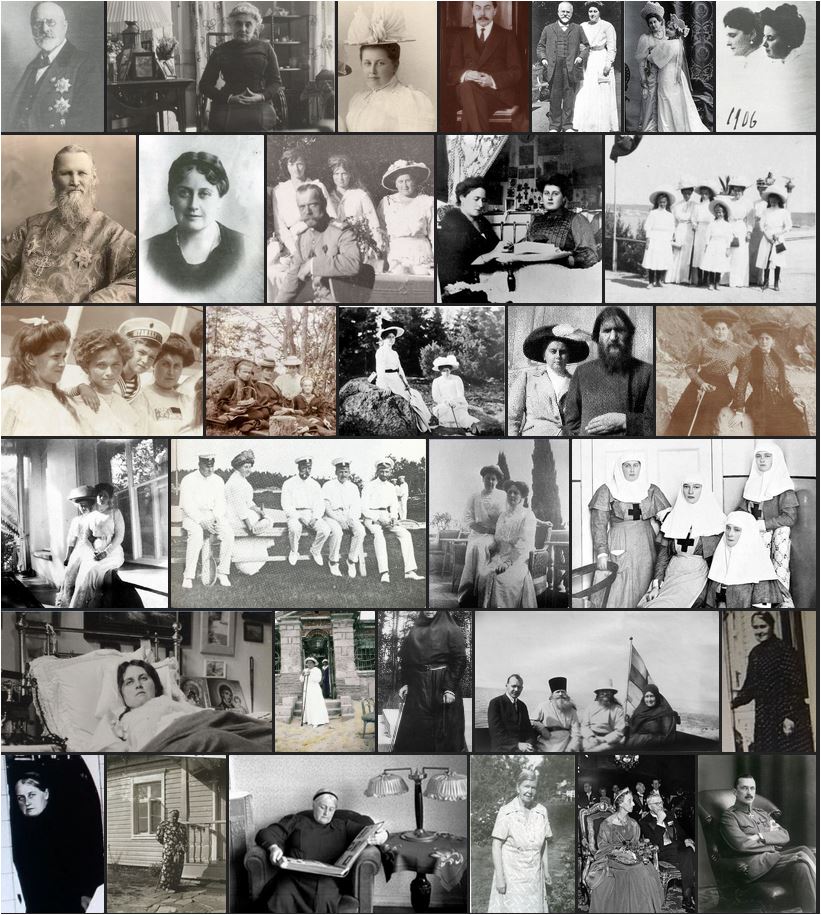 |
|
 Доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Бабкин, автор монографии «Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии» о "неудобных" аспектах свержения Монархии в России — Михаил Анатольевич, какое место в Российской Империи занимала Православная церковь в целом и Святейший синод в частности? — Российская Империя и Православная российская церковь представляли собой единое церковно-государственное тело, во главе которого стоял император. Высшим органом церковного управления в России являлся учреждённый Петром I в 1721 году Святейший Правительствующий синод, или постоянно действующий «малый церковный собор» (Синод, по-гречески — σύνοδος, означает собор). С 1723 года Синод титуловался как «Святейший» и «Правительствующий». Первое из этих наименований указывало на равенство Синода с восточными патриархами, а второе — на независимость Синода от Правительствующего сената, которому были подчинены все коллегии (с 1802 года ставшие называться министерствами). То есть своим статусом Синод был приравнен не к коллегии, а к Сенату. Если Сенат действовал в области гражданского управления, то Синод — в области духовного. Причём здания Сената и Синода, располагавшиеся на Сенатской площади Санкт-Петербурга, представляли собой единое целое, соединяясь триумфальной аркой, которая была увенчана императорской короной. Деятельность Синода контролировало назначавшееся Императором светское лицо — Обер-Прокурор Святейшего Синода, являвшийся официальным представителем власти Его Величества. На Обер-Прокуроре лежали функции охранения государственных интересов в сфере церковного управления, а также контроля за органами управления Православной церкви в центре и на местах: за Синодом и духовными консисториями соответственно. — Какова была политическая позиция иерархов в период Февральской революции? — В последние дня февраля 1917 года (даты привожу по юлианскому календарю) в условиях кризиса государственной власти в столице Российской Империи происходил рост количества забастовок, уличных манифестаций, начался процесс перехода воинских частей Петроградского гарнизона на сторону Революции. В те дни к Синоду с настоятельными просьбами о принятии каких-либо мер в поддержку Монархии обращались как представители общественности, так и государственные чиновники: например, Обер-Прокурор Святейшего синода Николай Раев и его заместитель (точнее, в терминологии тех лет — Товарищ) Николай Жевахов. Однако члены Синода не пошли навстречу тем ходатайствам. 2 марта 1917 года в покоях московского Митрополита (они располагались на подворье Троице-Сергиевой Лавры, по адресу Набережная реки Фонтанки, дом № 44, в здании, где сейчас находится Центральная городская публичная библиотека имени Владимира Маяковского) состоялось частное собрание членов Синода. В нём приняли участие шесть из одиннадцати членов высшего органа церковного управления. Было принято решение незамедлительно установить связь с Временным правительством, сформированным в тот день Исполнительным комитетом Государственной Думы. Данный факт позволяет утверждать, что члены Синода признали новую власть ещё до (!) отречения Императора Николая II от Престола, которое состоялось в ночь со 2 на 3 марта. МИФИЧЕСКОЕ ОТРЕЧЕНИЕ — В ходе Февральской революции была свергнута Царствующая Династия. Как духовенство Православной церкви отнеслось к этому событию? — Сделаем небольшой исторический экскурс. Как известно, 2 марта 1917 года во Пскове Император Николай II отрёкся за себя и за своего сына в пользу своего младшего брата — Великого князя Михаила Александровича. На следующий день, 3 марта, в Петрограде, в доме № 12 на Миллионной улице Михаил Александрович подписал документ, официальное название которого — «Акт об отказе Великого князя Михаила Александровича от восприятия Верховной власти и о признании им всей полноты власти за Временным Правительством, возникшим по почину Государственной Думы» (источник: Собрание узаконений и распоряжений Правительства. Пг., 1917. № 54. 6 марта. Отд. 1. Ст. 345. С. 534.). Однако в первых числах марта 1917 года тот документ в прессе, подконтрольной Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов, был опубликован под названием «Отречение Михаила Александровича». С тех пор возник миф об отречении Великого князя. При этом к созданию названного мифа был причастен не только Петросовет, но и Святейший Синод. Обратимся к тексту «Акта» от 3 марта 1917 года. В нём Великий князь Михаил Александрович говорил: «Принял я твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную (Царскую. — Прим. ред.) власть, если такова будет воля Великого народа нашего, которому надлежит […] в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные Законы Государства Российского. Посему, […] прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, […] впредь до того, как […] Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа». Слов о каком бы то ни было отречении в «Акте» нет. Более того, в нём говорится о готовности Михаила Александровича воспринять Престол, если Учредительное собрание изберёт для России монархическую форму правления. Таким образом, 3 марта 1917 года Россия оказалась на исторической развилке: быть ей в той или иной форме Монархией или республикой. Возвращаемся к вашему вопросу. Как в сложившейся ситуации повёл себя Святейший Синод? Если вкратце, он с 4 марта предпринял целый комплекс мер, чтобы в общественно-политическом сознании 100-миллионной православной паствы снять вопрос о Монархии с повестки дня. Например, 7 марта высший орган церковного управления выпустил определение, в котором всему российскому духовенству предписывалось: «во всех случаях за Богослужениями вместо поминовения Царствовавшего Дома возносить моление “о Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном Правительстве ея”». То есть уже 7 марта в условиях отсутствия отречения Великого князя Михаила Александровича и до решения Учредительного собрания о форме правления Царствующий Дом стал поминаться в прошедшем времени. Тем самым члены Синода осуществили вмешательство в государственное устройство России: Дом Романовых ими фактически был провозглашён «отцарствовавшим». И в данном контексте можно говорить, что члены Синода свергли Царскую власть как институт. Таким образом, тезис Петросовета о якобы имевшем место «отречении Михаила Александровича» и, как следствие, о том, что «Дом Романовых отрёкся от Престола», был поддержан авторитетом Святейшего Синода, после чего был внедрён в общественное сознание православной паствы, превратившись со временем в устойчивый миф. Он до сих пор тиражируется в массе научных трудов, в учебной литературе, в «Википедии». СВЕРЖЕНИЕ «ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО КОНКУРЕНТА» — Как духовенство на местах отнеслось к Февральской революции? — Политическую линию для всего духовенства определял Синод. Его соответствую-щие распоряжения в порядке церковного управления из Петрограда веером рассылались по всем епархиям, монастырям, приходам. А духовенство, в свою очередь, доводило сведения до паствы. Например, после изменений, внесённых высшим органом церковного управления в Богослужебные чины, по всем храмам Православной Российской церкви стали звучать молитвы такого плана: «Всепетая Богородице, […] спаси благоверное Временное правительство наше, емуже повелела еси правити, и подаждь ему с небесе победу». Такими «вероучительными» текстами Синод фактически провозгласил тезис о божественном происхождении власти Временного правительства. — Если, как вы считаете, члены Синода выступили на стороне Революции, то что они хотели от неё получить? — После реформы церковного управления, проведённой Царём Петром I, в России более двух веков не было Патриаршества. И духовенство со временем (особенно после 1905 года) стало культивировать воззрения, а на самом деле — миф, что, мол, Патриаршество является «каноническим строем церковного управления», и что лишённая Патриарха Русская церковь находится в «обезглавленном» состоянии, в «порабощении» у государства. Действия, предпринятые Святейшим Синодом весной 1917 года, были обусловлены мотивами, вытекающими из многовековой историко-богословской проблемы «священства-царства», основной вопрос которой — о соотношении Царской и священно-иерархической властей, или чья власть выше: Царя или Патриарха? Над кем из них нет никого, кроме Бога? Воспользовавшись общественно-политической ситуацией, сложившейся в ходе Февральской революции, члены Святейшего Синода решили «свести счёты» с Царством. Ведь если есть в государстве Царская власть в любой её форме — есть и участие Императора, как Помазанника Божьего, в делах церковного управления, есть проблема соотношения священства и царства. Если же в государстве нет Царя, а есть светская, лишённая сакрального смысла республика в любой её форме — то автоматически получается, что «священство выше царства». Иначе говоря, в первых числах марта 1917 года члены Святейшего Синода свергли Императорскую власть как своего «харизматического конкурента». Они хотели, чтобы церковь в государстве существовала как при Царе, но без Царя: чтобы духовенство, как и прежде, пользовалось широкими правами и привилегиями, чтобы оно получало дотации от казны, но при этом чтобы не было какого-либо «вмешательства государства в дела церкви», чтобы не было за духовенством какого-либо надзора, контроля и учёта «извне». ЦАРЯ НЕ СТАЛО, ДА БУДЕТ ПАТРИАРХ — Парадоксальным образом выглядит, что восстановление патриаршества произошло в 1917-ом — в рубежном году истории России… — Патриаршество было восстановлено ради самой патриаршей власти: в первую очередь для того, чтобы она была. Так, Поместный Собор под давлением «архиерейской партии» принял определение о восстановлении Патриаршества 4 ноября 1917 года, на следующий день избрал на Патриаршество Митрополита Московского Тихона (Беллавина). Но при этом полномочия первого епископа и его место в системе церковного управления очерчены никак не были. Лишь 8 декабря Собором было принято определение «О правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея России». Далее — власть Патриарха только увеличивалась, вплоть до своей абсолютизации в 2000—2010-х годах. В целом, если говорить в контексте проблемы «священства царства», 1917-й год свёлся к следующему: в марте не стало Царской власти, а в ноябре появилось Патриаршество. То есть не стало Царя, но появился Патриарх. Кому это выгодно? Вопрос — риторический. Максим Кузахметов, "МК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", 6 марта 2020 г. https://credo.press/229570/ |