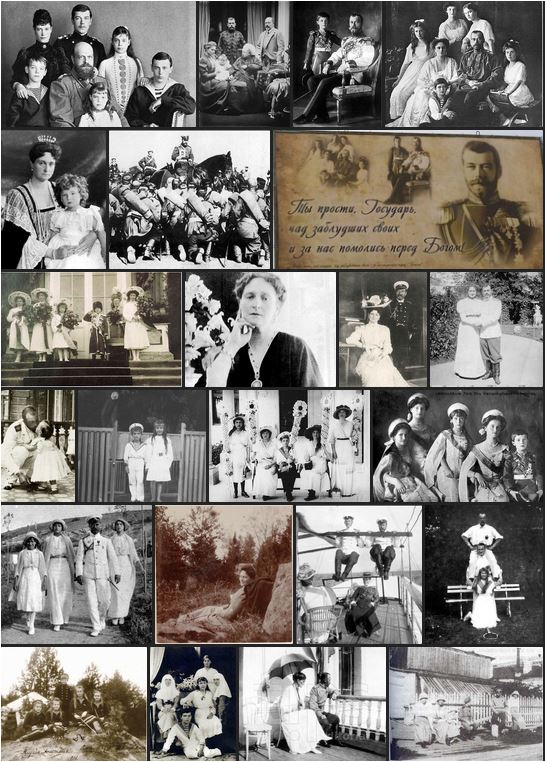

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!
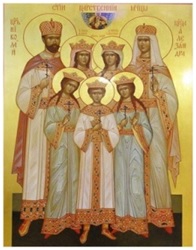
КОНТАКТЫ
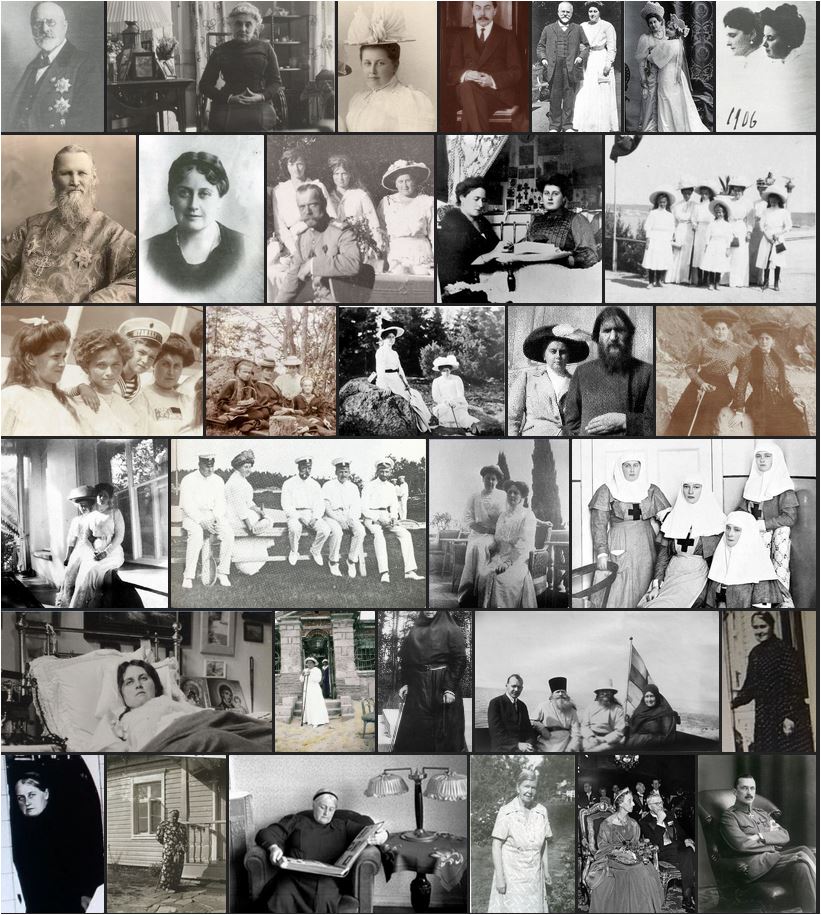
ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.
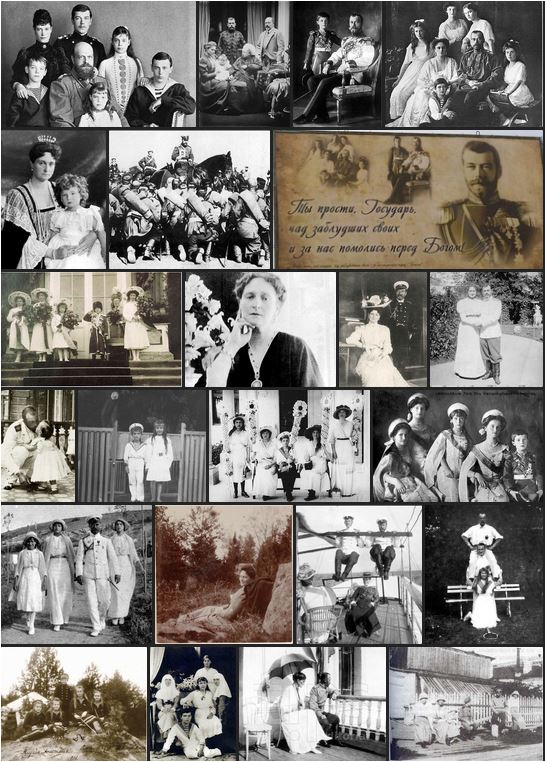 |
 ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА! 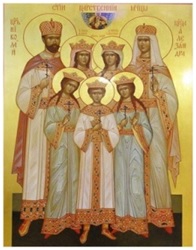 КОНТАКТЫ |
PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.
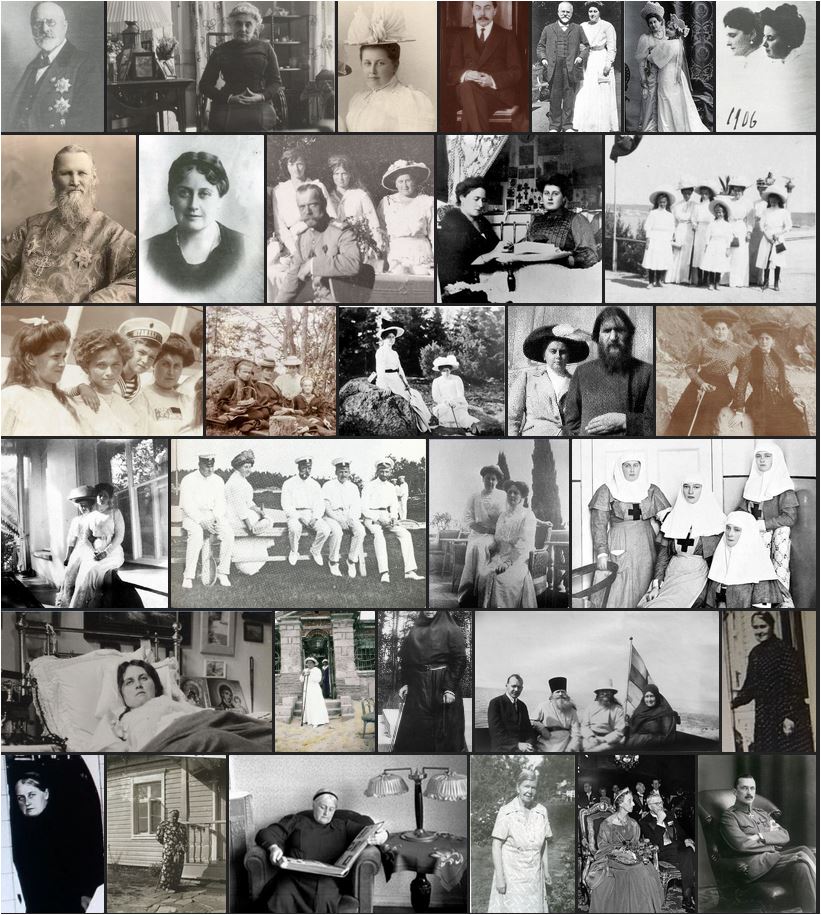 |
 «Государь обожал армию и флот: в бытность Наследником он служил в Преображенском и Гусарском полках и всегда с восторгом вспоминал эти годы. Государь говорил, что солдат - это лучший сын России. Ее Величество и дети одинаково разделяли любовь к войскам - «все они были душки», по их словам. Частые парады, смотры и полковые праздники были отдыхом и радостью Государя. Входя после в комнату Императрицы, он сиял от удовольствия и повторял всегда те же самые слова - «is was splendid», никогда почти не замечая каких-либо недочетов. /.../ Бывая в собраниях и беседуя с офицерами, Государь говорил, что он чувствует себя их товарищем; одну зиму он часто обедал в полках, что вызвало критику, так как он поздно возвращался домой. За этими обедами офицерство в присутствии Государя не пило вина; дома же за обедом Государь обыкновенно выпивал две рюмки портвейна, который ставили перед его прибором. Любил Государь посещать и Красное Село». (Из воспоминаний А.А. Танеевой «Страницы из моей жизни»). «Сознаюсь, что за все 16 лет службы при Дворе мне всего лишь дважды довелось говорить с Государем о политике. Впервые это было по случаю двухсотлетия основания Петербурга. Столбцы газет были переполнены воспоминаниями о победах и преобразованиях великого Петра. Я заговорил о нем восторженно, но заметил, что Царь не поддерживает моей темы. Зная сдержанность Государя, я все же дерзнул спросить его, сочувствует ли он тому, что я выражал. Николай II, помолчав немного, ответил: Конечно, я признаю много заслуг за моим знаменитым предком, но сознаюсь, что был бы неискренен, еже ли бы вторил вашим восторгам. Это предок, которого менее других люблю за его увлечения западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время, как переходный период, и было необходимо, но мне оно несимпатично. Из дальнейшего разговора мне показалось, что и кроме сказанного, Государь ставил в укор Петру и некоторую показную сторону его действий, и долю в них авантюризма. Царь долго помнил мои чувства симпатии к великому Романову. Однажды, возвращаясь верхом по тропинке, высоко над шоссе из Учан-Су, с дивным видом на Ялту и ее окрестности, Государь высказал, как он привязан к южному берегу Крыма. «Я бы хотел никогда не выезжать отсюда». - «Что бы Вашему Величеству перенести сюда столицу?» - «Эта мысль не раз мелькала у меня в голове». Вмешалась в разговор свита. Кто-то возразил, что было бы тесно для столицы, - горы слишком близки к морю. Другой не согласился: «Где же будет Дума?» - «На Ай-Петри». - «Да зимой туда и проезда нет из-за снежных заносов». - «Тем лучше», - заметил дежурный флигель-адъютант. Мы двинулись дальше, Государь и я с ним рядом, по узкой дорожке. Император полушутя сказал мне: «Конечно, это невозможно. Да и будь здесь столица, я, вероятно, разлюбил бы это место. Одни мечты...». Потом, помолчав, добавил, смеясь: «А ваш Петр Великий, возымев такую фантазию, неминуемо провел бы ее в жизнь, невзирая на все политические и финансовые трудности. Было бы для России хорошо или нет, - это другой вопрос». Более мы к этому никогда не возвращались». (Из воспоминаний А. А. Мосолова). «Во время лагерного сбора 1894 г. Великий Князь Константин Константинович пригласил на четверговый обед профессора истории академика С.Ф. Платонова. ...Он стал говорить о ...Царе Петре как величайшем преобразователе, не имевшем в мире себе равного. Наследник (Николай Александрович - сост.) заметил: «Царь Петр, расчищая ниву русской жизни и уничтожая плевелы, не пощадил и здоровые ростки, укреплявшие народное самосознание. Не все в допетровской Руси было плохо, не все на Западе было достойно подражания. Это почувствовала Императрица Елизавета Петровна, и с помощью такого замечательного русского самородка, каким был Разумовский, ею было кое-что восстановлено». (Н.Д. Тальберг, «Светлой памяти возлюбленного Государя»). «Армия и Флот представили Его Величеству просьбу о производстве себя в чин Генерал-майора и Контр-адмирала, но Царь ответил: «Я храню чин, данный мне покойным Императором - моим отцом». (Из статьи полковника Шайдицкого «Государь Император - солдат и верховный вождь»). «В первые же годы его царствования были увеличены содержание офицеров и пенсии. В желании скрасить казарменную жизнь и зная, как солдат, взятый от сохи, тяготится замкнутой жизнью в казарме. Государь приказал увеличить число и продолжительность их отпусков. Упразднены были в связи с этим вольные работы в полках, исполнявшиеся осенью, когда именно солдаты могли увольняться в отпуск. При постройке казарм приказано было обращать особое внимание на устройство квартир для семейных офицеров. Понимая, какое значение для всего уклада офицерской жизни имеет офицерское собрание, в особенности в глухой провинции, Государь неоднократно помогал оборудованию их из собственных средств. По личному почину Государя улучшено было довольствие солдат... Государем проведено было производство обер-офицеров в чины через каждые четыре года, ...для возвышения звания солдата в собственных его глазах отменены были телесные наказания для штрафованных солдат. Издан был приказ о ношении погон нестроевыми денщиками, причем «казенная прислуга» была переименована в денщиков и вестовых». (Н.Д. Тальберг, «Светлой памяти возлюбленного Государя»). «Забота Государя об офицерах и солдатах проявлялась безпрерывно. Часто, узнав о затруднительном материальном положении кого-нибудь из них, Царь оказывал помощь из своих личных средств. Вот один из многих примеров: в русско-японскую войну 19-го конного пограничного полка Заамурского округа ротмистр Виторский со своим спешенным эскадроном отбил 8 атак японской пехоты под Ляоляном. Перед позицией оставались лежать наши раненые, которых под огнем выносили вызвавшиеся на это солдаты, но когда этих добровольцев японцы стали подстреливать, то ротмистр сам стал выносить своих раненых солдат. После 8-ой атаки в строю эскадрона осталось 15 солдат и из офицеров - один ротмистр с 26 ранениями штыками и пулями. Когда об этом узнал Государь, то приказал ротмистра Виторского на личные средства Его Величества отправить к знаменитым врачам в Швецию на лечение. Через 10 месяцев ротмистр Виторский на костылях представлялся Его Величеству. Государь, подойдя к выстроившимся офицерам, к первому подошел к ротмистру и сказал: «Рад видеть вас, полковник! Живите и будьте здоровы на славу и радость Родины. Я и весь русский народ гордится вами и вашими славными ранами». Государь обнял и поцеловал его. Художник Самокиш по повелению Царя написал картину подвига, которая была помещена в Эрмитаже, но Государь купил ее себе и повесил в своем рабочем кабинете в Зимнем дворце, сделав надпись под ней: «Все за одного и один за всех». (Из статьи полковника Шайдицкого «Государь Император - солдат и верховный вождь»). «Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене снаряжения пехоты Государь решил проверить предложенную систему самому и убедиться в ее пригодности при марше в сорок верст. Он никому, кроме Министра Двора и дворцового коменданта, об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект нового обмундирования, данного для испробования находившемуся близ Ливадии полку. Надев его, вышел из дворца совершенно один, прошел двадцать верст и, вернувшись по другой дороге, сделал всего более сорока, неся ранец с полной укладкой на спине и ружье на плече, взяв с собой хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату. Вернулся Царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в восемь или восемь с половиной часов, считая, в том числе и время отдыха в пути. Он нигде не чувствовал набивки плечей или спины; и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил. Командир полка, форму коего носил в этот день Император, испросил в виде милости зачислить Николая II в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Государь на это согласился и потребовал себе послужную книгу нижнего чина, которую собственноручно заполнил. В графе для имени написал - «Николай Романов», о сроке же службы - «до гробовой доски». (Из воспоминаний А. А. Мосолова). Материалы подготовила Людмила Хухтиниеми. |